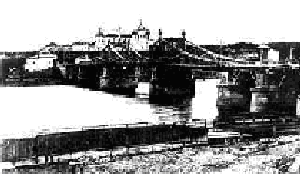Новгородский университет
ГлавнаяСвежий номер
Архив
Состав редакции
"...и к 6 утра уже город бегал радостный" | ||||
|
Ирина Брутман
| ||||
|
Гуляя сегодня по новгородскому кремлю, мы любуемся древними памятниками, осматриваем вековые стены. Стриженые газоны здесь похожи на сотни других газонов - обезличенных и официальных. Но ещё в начале 70-х годов очень зримо в этом месте напоминала о себе прогремевшая недавно война. Тогдашние посетители могли видеть за музеем и библиотекой скромные грядки с "зеленью первой необходимости" и полощущееся на ветру чистое бельё. Иностранцы умилялись на оазис русской экзотики, открывавшийся точнёхонько напротив ресторана "Детинец". | ||||
|
Кремль и до войны был жилым, а после неё приютил горожан, которых любовь к малой родине привела на пепелище. Градислава Иосифовна Бакочина - коренная новгородка. До войны её мама, Елена Филипповна Иванова, работала в художественной мастерской. Во время войны они были эвакуированы в Кировскую область. - И когда 20 января по радио сообщили об освобождении Новгорода, бабушка сказала маме: "Лена, пиши домой". Мама написала сюда, что она новгородка, что она художник, и ей прислали вызов. И в апреле 1944 она уже приехала. Сначала её в парткабинет забрали, а потом, когда начали заново создавать музей, её сразу забрали в музей. И вот с 1944 года по 1963-й она была единственным художником музея, и первые 10 лет - единственным художником в городе.
Когда ехали домой, ничего не боялись, хотя и знали, что вокруг руины, разруха. Думали только об одном: мы едем домой. А когда приехали, я это отлично помню, ведь мне уже было 8 лет, вышли из поезда, встали, бабушка говорит: "А где же Новгород?", потому что кругом - только иван-чай и развалины. Потом повернулась и говорит: "Ага, Кремль там, значит идем туда". Сначала нас поселили там, где сейчас номерные двери, под аркой. Было две комнаты - большая и маленькая. В большой комнате жили мы, потом к нам подселили еще одну семью, а в маленькой комнате помещалась редакция газеты "Новгородская правда", и они ходили через нас. Поэтому я всегда горжусь, и говорю, что я экспонат, потому что мы первыми в городе узнали, что подписан Акт о безоговорочной капитуляции. Было это так. Как только сотрудник газеты, Татьяна Федоровна, к сожалению, фамилии её Градислава Иосифовна не помнит, приняла сводку для газеты, она открыла дверь в их комнату и сказала: "Вставайте. Победа. Подписан Акт". Все тут же вскочили, мать пошла в музей будить всех, бабушка тоже куда-то побежала. В общем, сарафанное радио сработало здорово, и к шести утра уже весь город бегал радостный. Потом их переселили оттуда, и они жили вместе с сестрами Зинаиды Гиппиус, Татьяной Николаевной и Натальей Николаевной, в церкви Сергия Радонежского. Сёстры жили в большом помещении, а Бакочины - в самом алтаре, кровать стояла прямо около алтарной иконы. - В Кремле мы прожили с 6 мая 1945 года по 13 декабря 1966, то есть 21 год. Мы жили на Владычнином дворе, - вспоминает Надежда Ивановна Лихачева. - Ведь Кремль - был как особая планета, где были свои "микрорайоны" - Судейский городок, Присутственные места, дома 5 и 20. Но деление на "микрорайоны" очень условное, скорее для почтовых работников. Между нами, кто жил там, никаких делений не было и мы, дети, постоянно общались между собой. Когда-то, много лет назад, они жили в центре нашего города, в Новгородском кремле, дружили друг с другом, вместе росли, играли и работали. Когда Новгород только-только освободили, жить было негде, поэтому жили и в подвалах, в любых щелях, где только можно было приткнуться на ночлег. В церкви Покрова жил С.И. Пустовойтов, наш знаменитый художник. В доме № 1 жила заслуженная учительница РСФСР Ирина Александровна Жукова, которая первой в СССР организовала школьный музей, да такой, что ему завидовали даже государственные музеи из-за богатства его экспонатов. В доме № 2 проживала Светлана Яковлевна Бубнова, мужественная женщина, добившаяся присвоения школе имени С.В. Рахманинова. Это было нелегко, учитывая позицию руководства того времени. В Никитском корпусе жила целая семья музейных работников - Мантейфели. Глава семьи, Борис Константинович Мантейфель, до войны работал в музее, затем эвакуировал музейные ценности в Киров, а после войны - занимался их перевозкой обратно. В Митрополичьих покоях тоже жили, причём большие семьи (в маленьких комнатах помещалось 10-12 человек). Олег Алексеевич Играйко: - Я бы сказал, что мы все тогда жили в Кремлевской республике. И пытались сделать всё, чтобы наша республика возродилась и процветала. Семья Людмилы Ивановны Назаровой поселилась в кремле ещё в 1927 году. Семья была большая: отец, мать, 5 дочек и бабушка. А в 1941-м, за месяц до начала войны, родился в семье и долгожданный сын. Помещалось семейство там, где сейчас располагается гардероб Детского музейного центра. - До войны в Кремле был богатейший фруктовый сад, причём урожай собирали по осени все вместе - это было для нас как праздник. Хорошо помню малинник, грядки с морковкой, луком. Трудно теперь поверить, но у многих даже коровы были. Когда началась война, многие уже уехали из Новгорода, а у нас же не получалось: очень уж большая семья. Немцы уже подходили к вокзалу, а мы ещё сидели здесь - даже нельзя сказать "на чемоданах", так, кое-что было собрано в дорогу.
Отца только в самые последние минуты отпустили (он был в ополчении), чтобы спас семью. Когда мы выехали, мост был уже заминирован, и нас не пропускали, пока не подошел кто-то из старших офицеров и не приказал немедленно пропустить нас. Мы всё-таки успели проплыть под мостом. И только мы доплыли до Весёлой Горки, как мост взорвали. Настоящий шок, конечно, был, когда мы вернулись домой. Когда вошли в Кремль, прошли под арку - это было страшное зрелище. Всё, всё было разбито, включая нашу квартиру. Жители кремля рассказывают, что когда они учились и приходили, например, в библиотеку заполнить абонемент, у них спрашивали: "А адрес?", приходилось отвечать, допустим, так: "Кремль, Судейский городок, д.3, кв.3". И тогда, конечно, все, рядом стоящие ахали и удивлялись. Иногда думаю, посмотрели бы сегодняшние новгородцы, как жители кремля впятером жили в одной небольшой комнате. И ведь не было каких-то распрей, каких-то недоразумений между людьми. - Я удивляюсь нынешнему времени, когда слышу, что родные не могут поделить довольно обширные апартаменты. А мы жили с семьёй Играйко, нас 5 человек и их - 6, и общая кухня. И никаких недоразумений между нами не было. Трудно ли жили? Конечно, и временами - очень. Но, вспоминая прошедшие годы, они не устают повторять: "Как же хорошо мы жили, как дружно". Нонна Андреевна Мазанкина до войны жила на улице Большевиков. В освобождённый город приехала уже в ноябре 1946 года. Когда они заселялись в дом № 3, лестниц в нём ещё не было, только стропила, по которым и поднимались в квартиру. Впрочем, окон и дверей тоже не было. У Нонны Андреевны сохранился портрет, где она изображена в десятилетнем возрасте. Этот портрет был нарисован как раз на лестнице дома № 3 в Кремле. - Наша семья въехала в еще не восстановленный дом, поэтому и детские игры, и ремонт, и восстановление здания проходили одновременно. На реконструкции дома работали пленные немцы, и мы, дети, играли с ними. Они делились с нами хлебом, картошкой, капустой, показывали фокусы... Последние лучше всего выходили у одного из немцев, по-видимому, он был прекрасным артистом. Как-то раз этот немец говорит нам: "Слушайте, дети, а принесите-ка, пожалуйста, бумагу, будем рисовать портреты". До сих пор этот кусочек бумаги у меня сохранился, даже краски не выцвели. А когда мы уже учились классе в 5-6-м, возник театр. Собрались несколько девочек, подававших надежды, и ставили спектакли. Соседи нам приносили необходимое. Например, договаривались с директором настоящего театра (он тоже жил в Кремле), и нам давали костюмы, бутафорию, части декораций. Так мы играли три сезона: Вот хорошо помню, что в соседнем доме жил дядя Володя, у которого была большая шуба. Мы выворачивали эту шубу наизнанку, и в неё наряжался ребёнок, который играл Чудище. Потом шуба сбрасывалась, на голову надевали корону - и перед зрителями представал прекрасный Принц. Жаль, что сегодня дети в такие игры не играют: Ребятишки, конечно, рвались искупаться, побегать, но Нонна умела их собрать в "зрительный зал". Ставили "Аленький цветочек", "Золушку": И имели большой успех. Прежде всего - у родителей. Чтобы поощрить детей, они складывались, собирали буквально по копеечкам какую-то сумму и отдавали маленьким артистам. Первым делом дети шли на рынок и покупали себе всякие сласти: фрукты, мороженое - праздновали успех от души. Почему-то не осталось в памяти репетиций. Но, видимо, они всё же репетировали, потому что тексты порой были очень длинные. И дети ведь не просто произносили слова - мы играли. Последние "жители памятника" выехали из него только в 75-м. И не были "дома" почти 60 лет. А зимой нынешнего года их вновь пригласили сюда. Встречу организовали сотрудники детского музейного центра в Судейском городке. День выдался холодным, но дом, казалось, был особенно гостеприимным. А может быть, так оно и было - в дом вернулись его прежние жильцы. Идея собрать под крышей этого дома тех, кого он приютил в послевоенные годы, родилась у работников музея давно. Да и бывшие жильцы стали проявлять интерес. - Придут с внуками на какое-нибудь мероприятие, - рассказывают сотрудники музея, - а потом вдруг остановятся, начинают оглядываться. Вспоминают, где их комната была, где друзья жили. Ведь с тех пор тут разные перепланировки были... Вот мы их и собрали. - Сейчас я думаю, что у нас было прекрасное детство! - уверена Нонна Андреевна Мазанкина. - Мы выросли на красивых лужайках в окружении ароматных цветов. И все мы, в конечном итоге, стали провинциалами. Мы полюбили свой город, полюбили друг друга. |