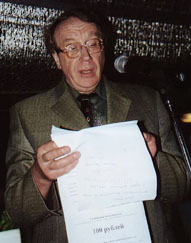Новгородский университет
ГлавнаяСвежий номер
Архив
Состав редакции
Вместо некролога. Русские филологи | ||||||
|
Ни к одной науке судьба не была так сурова в 2005 году, как к филологии. Целый ряд выдающихся филологов закончил свой жизненный путь в ушедшем году. Эти заметки представляют собой попытку отдать дань их памяти, а кого-то и познакомить с выдающимся современником. | ||||||
|
Михаил Гаспаров (1935-2005) Цитата: "Изучая историю, видишь, сколько человечество совершало глупостей, из которых очень многие могли быть роковыми, и все-таки оно живо. История по-прежнему учит нас, если угодно, пессимизму в том смысле, что из опыта предшественников ничего почерпнуть невозможно, но с другой стороны, оптимизму, потому что, несмотря на это, человечество все-таки еще существует". Михаил Гаспаров - крупнейший специалист в области классической и современной филологии, древней истории, общей поэтики и стиховедения, а также теории и практики художественного перевода. Знакомство с его работами (а их более 300, и большинство составляют книги и большие статьи) вызывает в уме образ гуманитарной арки, двумя вертикальными пилонами которой являются античная и русская литература, а перекрытием - стиховедение и поэтика. Формирование М.Л. как филолога началось именно с классической филологии. Бестселлером стала книга М.Л. "Занимательная Греция. Рассказы о древнегреческой культуре". Широк временной и именной диапазон тем и авторов в области русской филологии: Пушкин и Тютчев, Чехов, Брюсов и Блок, Хлебников и Маяковский, Анненский и Цветаева, Мандельштам и Пастернак: Из трудов по поэтике и стиховедению широкую известность получили его работы "Античная литературная басня" (1971), "Очерк истории русского стиха: метрика, ритмика, рифма, строфика" (1984), "Очерк истории европейского стиха" (1989), "Русские стихи 1890-1925 годов в комментариях" (1993), "Метр и смысл. Об одном механизме культурной памяти" (1999): С его именем ассоциируется понятие о "русской стиховедческой школе". Как стиховед он обсчитал за жизнь столько, что последующее компьютеризированное поколение угнаться так и не смогло. Гигантская работа, впору целому институту, выполнена им одним. Скромный и элегантный, внимательно слушающий, записывающий в книжечку, всегда подготовленный и к выступлению, и к дискуссии. Общение с ним было праздником. "Слушаю", - раздавалось в телефоне, и воображение тут же пририсовывало правое ухо, напряженно склоненное к собеседнику. Сам М.Л. звонил редко - звонкам предпочитал почтовые открытки, тесно заполненные мелкими, округло-бисерными строчками. Тем же незабываемым почерком испещрены были и миниатюрные записные книжечки, которые М.Л. время от времени вынимал из кармана. Их содержимое он щедро ссыпал в "Записи и выписки", за что был обласкан адептами постмодернизма, доверчиво и радостно принявшими гаспаровские лабораторию ученого и кухню писателя за его ars poetica. Владимир Топоров (1928-2005) Академик Владимир Николаевич Топоров - один из основателей отечественной семиотики (тартуско-московской школы), лингвист, историк и теоретик литературы, истолкователь мифологии, философии, религиозной мысли и того целого, что обычно называется "мировой культурой", а может называться движением человеческого духа. Применительно к людям такого духовного масштаба и такой творческой мощи всякая "профессиональная" дефиниция кажется условной, а всякий эпитет - банальным и в то же время недостаточным. Круг интересов Владимира Николаевича можно определить только самым общим образом - Бог и человек. Иначе мы обречены будем погрязнуть в исчислении самых разнообразных сюжетов (от глубокой архаики до совсем близких времен), которые так или иначе затронуты в книгах и статьях Топорова. Но даже и этот огромный, превышающий обычное разумение список будет заведомо неполным. Мы знаем, что Топоров писал об исчезнувших индоевропейских языках и мифологических системах, праславянском языческом пантеоне и русской святости, Вергилии и Светонии, несправедливо забытом литераторе конца XVIII века Михаиле Муравьеве и "Бедной Лизе", Жуковском, Пушкине, Баратынском, Тютчеве, Тургеневе, Достоевском, Блоке, Ремизове, Ахматовой, "петербургском мифе" и "литературных урочищах", аполлоническом и дионисийском началах русской культуры, вечных символах круга и креста, Космосе и Истории, почитании св. Ксении Петербургской и современных граффити... Топоров обрел мировое имя раньше, чем высшую ученую степень: лишь в 1988 году он стал доктором филологических наук honoris causa - на излете советской власти была официально признана очевидность. Когда десять лет спустя В.Н. первым получил премию Александра Солженицына, решение это культурное сообщество приняло с невиданным прежде и не повторившимся позже единодушием. Все, кто знал о существовании Топорова, знали и другое: рядом с нами живет человек, которому всякое определение мало.
Выдающийся историк литературы, замечательный прозаик и мемуарист. Большую часть своей жизни он посвятил изучению творчества Чехова. Работы А.П. Чудакова уже многие годы назад стали классикой русского литературоведения. Книга "Поэтика Чехова", изданная в 1971 году, остается одним из ключевых текстов современной филологии. Множество сил Александр Чудаков потратил на издание и осмысление наследия русской формальной школы. Ярчайшим событием научной жизни стала подготовленная Александром Павловичем совместно с Мариэттой Чудаковой и Евгением Тоддесом публикация книги Ю.Н. Тынянова "Поэтика. История литературы. Кино". В конце 80-х годов начали появляться в печати мемуарные очерки Александра Чудакова. Уже тогда проницательный читатель мог угадать потаенный писательский дар Чудакова. Его очерки о Шкловском, Виноградове, Бонди, Лидии Гинзбург были написаны как тончайшие психологические портреты. В них много сказано не только о самих героях и эпохе, их породившей. В них столь же ярко отразилась и личность мемуариста, человека, умевшего видеть самые резкие черты современности в контексте истории, находить точные и смелые слова. Все, что когда-либо написал Александр Чудаков, написано человеком свободным и смелым, чуждым конъюнктуре и погруженным в историю. Сергей Старостин (1953-2005)
Выдающийся лингвист. Один из тех ученых, благодаря кому - в их областях - российская наука остается безоговорочно лучшей в мире. Доктор филологических наук, член-корреспондент АН РФ, создатель целых направлений в сравнительно-историческом языкознании. Человек, бесконечно доброжелательный и простой в общении. Полиглот, еще в школьные годы выучивший десятки языков, а к своим пятидесяти с небольшим годам потерявший им счет. Гордость ОСиПЛа - Отделения структурной (ныне теоретической) и прикладной лингвистики филфака МГУ, которое он закончил. Директор учебно-научного центра компаративистики Института восточных культур Российского государственного гуманитарного университета. Было совершенно непонятно, как он успевает сделать всё, что успевает. Он составил словари и выполнил реконструкцию праязыков нескольких языковых семей и макросемей - то есть обработал и систематизировал материал сотен языков. Как-то почти мимоходом запрограммировал полноценный синтаксический анализатор для русского языка - задача, которая так и не была решена за десятилетия работы над машинным переводом. Созданное им рабочее место лингвиста - система "Старлинг" - уже более 10 лет верой и правдой служит десяткам ученых. Елеазар Мелетинский (1918-2005) Создатель знаменитой энциклопедии "Мифы народов мира".
Мелетинский был, может быть, лучшим нашим специалистом по мифологии. За свою научную карьеру Мелетинский проделал огромную работу над классификацией всех существующих мифов, и результатом явились более 250 научных трудов, исследующих мифы буквально во всех спектрах. Недавно была переиздана его ранняя работа, где на обложке так и читается одной строкой: "Елеазар Мелетинский. Герой волшебной сказки". Его судьба была, наверное, более чем бурной для кабинетного ученого, но типичной для нашей страны. Родился в 1918 году в Харькове, в 1921 семья перебралась в Москву. В 1940 году Мелетинский заканчивает Московский институт истории, философии и литературы, учебу в аспирантуре прерывает война. После кратковременных курсов военных переводчиков воевал на Южном фронте, был в окружении, вышел к своим. После этого попал на Кавказский фронт, где в 1942 году был арестован и приговорен к десяти годам заключения за "антисоветскую агитацию", но в 1943 году был отпущен из тюремной больницы в Овчалах по состоянию здоровья - "по актировке". Вернулся в аспирантуру, защитился, стал завкафедрой литературы Петрозаводского университета, но в 1949 последовал новый арест, потом - тюремное заключение и лагерь. Освобожден и реабилитирован был только в 1954 году. Приходится понять, принять и осознать: после 2005 года наши гуманитарии остались без старших. Дальше придется жить самим. И, наверное, стоит иногда вспоминать слова Мелетинского из его мемуарной книги "Моя тюрьма": "Жизненный опыт все больше подталкивал меня к мысли о бессмысленности жизни. Падение догмы способствовало развитию в моем мироощущении элементов экзистенциализма. : И, может быть, - думал я, - если у меня хватит силы не опустить глаза перед Хаосом жизни, то я смогу, без лишних иллюзий, вносить сознательный смысл в свою жизнь и в жизнь людей, меня окружающих". |