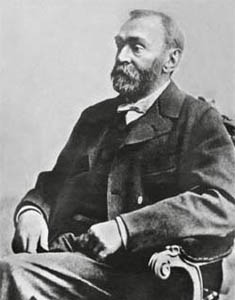Новгородский университет
ГлавнаяСвежий номер
Архив
Состав редакции
PR длиной в 108 лет. Каждому ученому - по "нобелю" | ||
|
Елена Михайлова, доцент кафедры журналистики
| ||
|
PR-сопровождение научных открытий и собственно профессионального пути ученого - сегодня неотъемлемый ингредиент в заветном рецепте общественного признания. Пиар в науке - это не хвастовство, а необходимое условие, при котором все общественные институты (государство, бизнес, общество) дают ученым добро на использование существеннейших материальных, информационных и временных ресурсов именно в том научном направлении, которое представляется обществу наиболее полезным для его благополучия. О действенности РR-технологий рассуждают третьекурсницы-журналистки Мария ИВАНОВА и Елена ВАГАНОВА в амбициозном PR-проекте "Каждому ученому - по "Нобелю", занявшем 2 место в VI региональном этапе III Всероссийского открытого конкурса студенческих работ в области развития связей с общественностью "Хрустальный Апельсин". | ||
Помимо чувства юмора, авторов PRоекта отличает патриотичный настрой: "Мы первые полетели в космос, поймали радиоволну и погрузились на дно Ледовитого океана. Несмотря на это, Нобелевской премией - самой известной и престижной из научных премий - Россию не жаловали. В чём же причина?" Не привыкшие хвастаться Действительно, с 1917 года лишь 18 российских ученых были удостоены Нобелевской премии. Примерно столько же, заметим, - у Швейцарии, у Нидерландов... В свою очередь американцы получили 275, англичане - 101, немцы - 76 премий. Такое соотношение не отвечает истинному вкладу России в мировую науку, а его причину следует искать не только в закрытости советской науки и нежелании по идеологическим причинам сотрудничать с Нобелевским комитетом. Мария Иванова и Елена Ваганова называют еще одну причину: отсутствие системы продвижения наших ученых нашими же соотечественниками. Доходит до несправедливости, отмечают студентки. Например, американский физик Ли из Стэнфордского университета работал у В.С. Летохова в лаборатории над открытием нового явления лазера, затем самостоятельно опубликовал результаты, Стэнфордский университет его выдвинул на Нобелевскую премию - и Ли ее получил. На протест Российской академии наук ответ Нобелевского комитета был очень лаконичен: "Россия должна сама подавать бумаги в комитет". И это не единичный случай. Академик Е.Гинзбург в интервью в Доме ученых прямо заявил, что всем известным российским ученым приходят бумаги из Нобелевского комитета с предложением представить кандидатуры на получение Нобелевской премии. Однако в Академии нет взаимного уважения друг к другу, зато есть привычка в статьях ссылаться на исследования западных коллег, хотя в России много своих талантливых, хорошо известных на Западе ученых, имеющих достойные результаты, готовые к выдвижению на Нобелевские премии. Доходит вообще до абсурда, сокрушаются авторы пиар-проекта. Прекрасно известно, например, что двух наших нобелевских лауреатов - Ж. Алферова и Е. Гинзбурга - на эти премии выдвигали: американцы, а вовсе не Российская академия наук! (Та же ситуация, кстати, и с нобелевцами-писателями: Бунина выдвинул Ромен Роллан, а Пастернака - Альбер Камю.) Наши величайшие физики Басов и Прохоров получили Нобелевскую премию случайно. Заместитель директора ФИАН Крохин был на конференции в Париже и за чашечкой кофе случайно услышал, как за соседним столиком американцы говорили, что калифорнийский профессор Чарльз Таунс в Берге выдвигается на Нобелевскую премию. Крохину стало нехорошо, ведь в это же время в СССР независимо от исследований Таунса наши физики уже пришли к аналогичным выводам в области квантовой электроники, которая привела к созданию осцилляторов и усилителей, основанных на мазерно-лазерном принципе. Заместитель директора ФИАН сразу прилетел в Москву, и РАН еле-еле успела подать документы. А так бы Россия не получила и этих Нобелевских премий. Следи за имиджем Само понятие имиджа (образ конкретного объекта, существующий в массовом сознании) авторы пиар-проекта рассматривают, вслед за М.Г. Ярошевским, как единство трех составляющих: имидж научного продукта/открытия/идеи + имидж научного сообщества + персональный имидж ученого. Имидж научного продукта должен строиться по законам имиджа товара - т.е. с точки зрения нужности обществу. Популяризировать научные изобретения следует, по мнению М.Г. Ярошевского, с расчетом, в первую очередь, на наукоемкое производство и связанный с ним бизнес. При формировании имиджа научного сообщества надо исходить из задачи построения имиджа организации или повышения престижа низкостатусной социальной группы. Персональный же имидж ученого базируется на стратегиях формирования имиджа личности с акцентом на профессиональную состоятельность ученого. "Перед тем, как приступить к формированию имиджа кандидата на Нобелевскую премию, нужно создать некий Российский Нобелевский центр. РНЦ должен будет пошагово приводить в действие механизм создания имиджа кандидата", - предлагают Мария и Елена. Шаг первый - подготовка идеального имиджа кандидата-ученого на Нобелевскую премию - заключается в том, чтобы помимо общемировых официальных критериев отбора кандидатов учитывать российскую специфику. Во-первых, РНЦ должен заручиться желанием ученого стать кандидатом на получение Нобелевской премии. Еще свежа в памяти аналогия - отказ российского математика Георгия Перельмана, доказавшего гипотезу Пуанкаре, что никому не удавалось на протяжении 100 лет, от европейской математической премии и от медали Филдса. Западный мир в лице гарвардского профессора Артура Яффе прокомментировал этот поступок однозначно: "Я думаю, что он очень нетривиальный человек. Он против того, чтобы его вовлекали в пышные церемонии и идолопоклонство. Но он доводит это до крайности, которую могут счесть легким безумием". Во-вторых, РНЦ должен последовательно популяризировать достижения отечественных ученых - и прежде всего внутри страны и только затем в мировом масштабе. Так, российские ученые будут поставлены в ситуацию, когда невозможно на глазах всей общественности планеты рекомендовать Нобелевскому комитету не российского коллегу, а европейцев или американцев, при условии, конечно, его безусловно высокого вклада в науку. Шаг второй - внутрироссийский отбор кандидатов-ученых на Нобелевскую премию - требует существенного расширения экспертного сообщества ученых, правомочного подготавливать выдвижение "нобелевских" кандидатур. Иванова и Ваганова ответственно прописывают такую схему. В декабре РНЦ рассылает письма деканам факультетов всех вузов страны с просьбой указать научные достижения своих сотрудников. Получив к февралю ответ, центр проводит отбор кандидатов по выработанным критериям. К марту РНЦ составляет российский список претендентов на Нобелевскую премию и начинает активную работу с учеными через популяризацию их трудов. В начале сентября РНЦ рассылает эти списки-рекомендации лицам, которые правомочны выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию (члены Нобелевского комитета или лауреаты Нобелевской премии, профессоры вузов или академики, а также группы ученых, рекомендующая не себя, а коллегу). Ставка делается на то, что таким образом с марта по сентябрь РНЦ удастся различными средствами донести до россиян сведения о научных открытиях и их авторах. Соответственно, академики, которым будут присланы письма из Нобелевского фонда с просьбой рекомендовать достойных претендентов, станут знать куда больше имен отечественных ученых и с большей вероятностью рекомендовать именно их, поддерживая свою страну. Шаг третий - распространение информации об отечественном кандидате, его трудах и личности - РНЦ следует произвести так, чтобы российский ученый воспринимался как готовый кандидат на получение Нобелевской премии. При этом стоит позиционировать ученых-претендентов не как 100%-ных лауреатов Нобелевской премии - она, в конце концов, вторична по отношению к собственно науке; а как достойных профессионалов в своем деле, которые способны потягаться и с американцами, и с европейцами. Согласно поговорке "короля играет свита", необходимым условием формирования успешного имиджа отечественного ученого будет воспитание, поддержание вокруг него имидж-ориентированной среды, или деловой и эмоциональной включённости коллег, родных, друзей и широких слоев общественности в круг его профессиональных интересов. Формируя такую выгодную информационную среду, перед началом распространения информации о нобелевских претендентах, необходимо осветить вопрос о количестве нобелевцев в России (по сравнению с лидером - США) и об истории их профессионального становления и открытиях, и, наконец, о достижениях современных претендентов. Делать это можно не только в научно-популярных передачах (их мало), но и в новостях хотя бы раз в неделю, а также через участие претендентов на нобелевскую премию в передачах типа "Пока все дома" (Первый канал), "Один день. Новая версия" (НТВ). И усилий одной "Российской газеты", отслеживающей нобелевскую тематику более или менее постоянно, явно недостаточно. Необходимо размещать популярно написанные статьи об открытиях российских ученых в различные информационные издания: "Известия", "Аргументы и факты"; публиковать материалы о жизни нобелевских лауреатов и кандидатов в журналах "Биография", "Караван историй"; рассказывать о достижениях в науке в научно-популярных изданиях "Наука и жизнь", "Журнал новейших открытий и изобретений", и особенно молодежных - "Техника - молодёжи", "Левша", "Юный техник". И радио, в последние годы ориентированное на развлекательность, можно тем не менее задействовать: организовать цикл передач о достижениях в науке на "Радио России" и минутные передачи "Доступно о науке" на музыкально-развлекательных "Русское радио", "Европа +". Мария Иванова и Елена Ваганова столкнулись также с тем, что в Интернете до сих пор нет русскоязычного ресурса о Нобелевской премии - история этих достижений России, биографии лауреатов и суть открытий "разбросаны" по Сети. Целостного представления о феномене премии не дает никто - значит, такой сайт нужно создать, как и печатным СМИ взять за правило размещать материалы о Нобелевке в своих Интернет-версиях. Политическое дело В заключение остановимся еще раз на справедливом постулате о том, что мир науки - это тоже рынок, на котором имя ученого значит не меньше, чем в экономике - фирменный брэнд. Один из его компонентов - уникальность/узнаваемость - относится к феномену Нобелевской премии, более чем к чему бы то ни было. Другой компонент брэнда - четкая соотносимость с определенной нишей - одновременно указывает на потенциал развития феномена. Статистика свидетельствует, что доля занятых в науке людей в развитых странах примерно одинакова и приближается к 10% от всего населения. Логично предполагать, что процент выдающихся достижений ученых разных стран будет относительно пропорционален друг другу в соотношении с числом жителей этих стран. На деле же в СССР (Россия) и США имеют около 12 процентов ученых, но число Нобелевских премий соотносится как 1 к 15! И сейчас еще с трудом верится, что кандидатуры таких русских ученых, как В.И. Вернадский, К.А. Тимирязев, К.Э. Циолковский и мн. др., не получили в свое время достаточной поддержки международной научной общественности. Это не может быть объяснено ничем иным, кроме как отсутствием в нашей стране - при любом строе, во все времена! - целенаправленной политики по продвижению интеллектуальных продуктов и их авторов в авангард мировой науки. Справедливости ради, однако, стоит отметить, что сама Нобелевская премия что при рождении, что через 103 года - в части ограничительных условий своих несовершенна, как ни кощунственно это звучит. По личным мотивам Нобель не включил в список наук, чьи достижения премируются, математику. Гипотеза Пуанкаре, доказанная Г.Перельманом, - не претендент на Нобелевскую премию: до той поры, пока (или если) эта гипотеза не будет рассмотрена в аспекте физики пространства, например. Также Нобель, например, распорядился награждать "денежными призами тех лиц, которые в течение предшествующего года сумели принести наибольшую пользу человечеству". В течение предшествующего года: Д.И. Менделееву в 1906 году не присудили премию по химии из-за его преклонного возраста. И.П. Павлов стал нобелевским лауреатом в 1904 году за работы в области: физиологии пищеварения, которые в его жизни были просто эпизодом. Предложение 20 лет спустя отметить премией его гениальные работы по условным рефлексам поддержки не получило. Когда же, наконец, Нобелевский комитет решился на этот шаг, Павлов умер, а посмертно премия не вручается. Были и "запоздалые" премии. Пример этого - присужденная в 2000 году премия крупнейшему российскому ученому Жоресу Алферову за работы, выполненные 20 лет назад. Петр Капица "ждал" премии 40 лет. Своеобразный рекорд - премия Френсису Пейтону Роусу, которого наградили через 55 лет после того, как он обнаружил вирус, вызывающий злокачественные опухоли. *** Наконец, интересна аналогия премии с таким компонентом брэнда, как школа кадров и "секрет фирмы". Американский исследователь Э. Радд приводит факт: из 55 обследованных им лауреатов Нобелевской премии, живущих в США, 34 работали в молодости под руководством Нобелевских лауреатов предшествующего поколения. Правильно, видимо, говорить о значении "личной научной школы" в нобелевской традиции. Под началом руководителя-лауреата молодой специалист осваивает его исследовательскую манеру, стиль мышления и таким образом приобщается к научной традиции. Конец "антинобелевской" тенденции в России положат, хочется верить, политическая воля лидеров государства и согласие научного сообщества трудиться над организацией каналов продвижения достижений отечественных ученых: от бизнес-реализации научных новинок до системы их выдвижения, сопровождения по тернистой дороге к Нобелевской премии. Последнему, безусловно, была бы полезна пиар-модель, предложенная студентками кафедры журналистики НовГУ. |